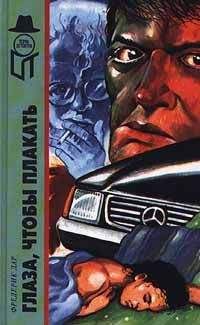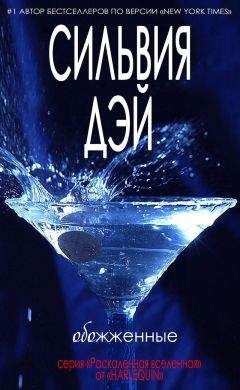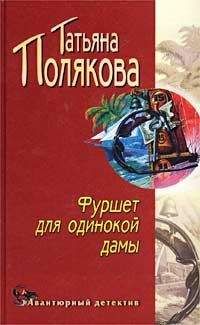Фредерик Дар - Глаза,чтобы плакать [По моей могиле кто-то ходил. Человек с улицы. С моей-то рожей. Глаза, чтобы плакать. Хлеб могильщиков]
— Но, Франк, — жалобно произнесла она, — что это значит?
— Я прошу тебя попрощаться с твоим преподавателем немецкого языка, Лиза. Тебе представляется уникальная возможность навсегда забыть эти кошмарные пять лет.
Наконец, она поняла и бросила пистолет, как будто он жег ей руки.
Франк не торопясь поднял его и снова вложил ей в ладонь.
— Ты убьешь Гесслера, и сразу улетучатся тысяча восемьсот двадцать два дня. Тысяча восемьсот двадцать два дня, вычеркнутые из нашей жизни. Мы начнем все сначала, Лиза, все! Завтра в Дании для нас начнется совершенно новая жизнь!
— Да нет же, Франк, — вздохнул Гесслер, — вы снова заблуждаетесь: нельзя спрятать зерно, положив его в землю.
— Корабль отходит через десять секунд, — рявкнул Франк, — быстро стреляй!
— Никогда! — ответила Лиза.
— Если ты выстрелишь, — с жаром продолжал Франк, — то я поверю что ты никогда не была его любовницей. Я поверю, что ты никогда не испытывала никаких чувств к нему. Но если ты не выстрелишь, я уйду без тебя! Решай: пришло время сказать «прощай» одному из нас.
Гесслер вытащил платок, чтобы вытереть выступивший на лбу пот.
— Вы можете выстрелить, Лиза, — сказал адвокат. — Я так слабо цепляюсь за жизнь…
Она покачала головой.
— Прощай, Лиза! — бросил Франк, направляясь к двери.
— Франк! — позвала она. — Франк, не делай этого.
Резко обернувшись, он изо всех сил выкрикнул:
— Но, Боже мой! Лиза, разве ты не хочешь убить эти жалкие пять лет?
— Хочу, — еле слышно прошептала Лиза. — Да, хочу!
И она навела пистолет на Франка. Тот все понял, но не пошевелился. После нескольких секунд нечеловеческого напряжения, спокойно, почти что тщательно, Лиза выпустила четыре пули.
При каждом выстреле тело Франка сотрясалось. Его взгляд затуманился. Сквозь голубоватую дымку он увидел, как исчезает милое лицо Лизы. Тогда он вцепился обеими руками в грудь и, прислонившись к стене, стал медленно сползать по ней, стараясь не потерять сознание.
Лиза не отворачивалась.
— Дания ничего бы не решила, — глухо сказала она. — Да и смерть Гесслера тоже ничего бы не решила. Если бы я была уверена, что ты успокоишься, я бы убила его, Франк, клянусь тебе, я бы убила его.
— Да, — так же глухо отозвался адвокат, — да, Лиза, вы бы убили меня.
Франк рухнул на пол, как-то странно сжавшись. Он стал похож на заснувшего ребенка. Лиза опустилась на колени.
— Клянусь тебе, что все было бы бесполезно, Франк. Ты ведь знаешь это, ответь, любовь моя! Ты ведь знаешь?
Франку удалось слегка кивнуть. Его губы вздрогнули, но в этот момент раздалась сирена отплывающего корабля. Когда сирена смолкла, Франк был мертв. Он лежал, положив щеку на согнутую руку.
С пристани раздался страшный шум. Громкоговоритель что-то прогнусавил — Лиза ничего не поняла. Затем из громкоговорителя раздалось на ужасном французском:
— Внимание! Внимание! Вы окружены. Выходите по одному, руки за голову. Внимание! Внимание! Ахтунг! Ахтунг!
Гесслер дотронулся до плеча молодой женщины.
— Пойдемте, Лиза, — приказал он. — Наш путь еще не пройден!
Женщина посмотрела на него, ничего не понимая, но адвокат помог ей подняться, и она дала довести себя до двери.
Когда их фигуры показались за стеклом, внизу внезапно воцарилась тишина.
Гесслер скрестил руки на затылке и пошел вниз по железной лестнице.
Человек с улицы
(Пер. с фр. А. Щедрова)
Дорогой Жерар Ури, однажды ты стукнул меня по голове, чтобы из нее родилась некая история. Вот она.
Она принадлежит тебе так же, как и моя дружба.
Ф.Д1
Мы слишком задержались в штабе, обмывая грядущее событие, и, когда я вернулся домой, Салли с детьми уже уехала к Фергюсонам.
С тех пор как мы обосновались во Франции, поселившись в лесном домике, моя жена стала бояться темноты. Стоило солнцу скатиться за горизонт, как она поспешно зажигала свет во всех комнатах, поэтому наши соседи думали, будто мы каждый день устраиваем приемы.
Уходя, Салли достаточно было опустить рычаг электрического счетчика, чтобы погасить свет. Это было очень удобно, тем более что он висел в маленькой нише рядом с входной дверью.
Я на ощупь приподнял занавеску, закрывающую нишу, и поднял рычажок. От сильного света у меня заслезились глаза. Дверь в гостиную была открыта, и я увидел елку в разноцветных лампочках. Их мигание напоминало рекламу. С Рождества елка немного завяла, и вокруг нее на полу валялись сухие иголки. Салли каждый день выметала их.
На столе лежало несколько свертков. Упаковка свертков и ленты, которыми они были перевязаны, блестели почти так же ярко, как и новогодняя елка. К стоявшей рядом початой бутылке виски была прислонена грифельная доска Дженнифер, на которой Салли написала мне послание:
«Мой дорогой полковник, гололед кончился, поэтому я беру свою машину. Захвати подарки, потому что у меня нет места. Главное, не забудь приехать к Фергам до наступления следующего года.
Твоя Салли».
Милая Салли! И хохотушка, и вместе с тем такая аккуратистка. Фантазерка и сама серьезность. В ней есть и легкомыслие, и озабоченность. К каждому свертку была приколота записка с именем и прозвищем того, кому предназначался подарок: Джеймс-медведь, Дороти-техаска, Джимми-ворчун.
Я сложил подарки в корзину из ивовых прутьев (моя жена пользовалась ею, когда отвозила грязное белье в прачечную), затем побрился, чтобы дамы, которым предстояло поздравить меня с Новым годом, могли ощутить бархатистость моих щек. Надушившись, я вышел из дома. Было шесть часов вечера. Погода была такой сырой, как будто стояла осень. Всю первую половину декабря держались морозы, выпал и лег снег, а затем внезапно наступило то, что называется оттепелью. Казалось, зима уже закончилась.
Я включил радио. С легким подрагиванием автоматическая антенна мягко поднялась над правым крылом машины. Органная музыка напомнила мне о церкви в Бронксе, где преподобный отец Диллингер дал мне впервые прочесть Библию.
Перед моими глазами встал образ преподобного отца. Его лысый, странно заостренный череп, похожий на картонный. А вообще он напоминал старого, доброго клоуна, наверное, его потешные ужимки весьма веселили Господа Бога. Когда Диллингер начинал песнопение, его вставная челюсть то и дело выскакивала изо рта, и он коротким отработанным движением отправлял ее на место. В «Нью-Йорк геральд» писали, что сейчас в Нью-Йорке выпал восьмидесятисантиметровый слой снега и Бродвей расчищают экскаваторами.
Жалко, что я сейчас не там. Бродвей — единственное место в мире, где чувствуешь в себе силы не бояться грядущего года, пусть даже снега выпало восемьдесят сантиметров.
Дороги в лесу из-за опавших листьев, образовавших какую-то коричневую кашу, сделались непроезжими, но через двести метров начиналось хорошее шоссе, и менее чем через десять минут оно приводило тебя в пригороды Парижа. Это было западное шоссе, и обычно я пользовался им, но поскольку Фергюсоны жили на севере от столицы, я решил выиграть время, найдя на карте путь покороче.
В конце концов я заблудился, оказавшись в каком-то заводском квартале, меня окружали закопченные стены и трубы. Плохо вымощенные улицы перерезались железнодорожными путями; водители грузовиков поносили мою белую машину последними словами, и часть пути я был вынужден ехать по тротуарам, потому что на мостовой меняли канализационные трубы. Я не имел ни малейшего понятия, где нахожусь, а поскольку французы неприязненно реагировали на мой «олдсмобиль», не решился спросить, как мне отсюда выбраться.
Наконец, после многих поворотов и разворотов, я выехал на длинную, унылую улицу. Вокруг фонарей плясал туман, а недавно подстриженные деревья напомнили мне лес после пожара, который я когда-то видел в Луизиане. Немногочисленные рабочие разъезжались по домам на мопедах, едкие выхлопные газы редких грузовиков медленно истаивали в пыльном воздухе. Прохожих было немного, все они торопились быстрее попасть к своим очагам. Во всей этой картине была та потерянность, неопределенность, что всегда так чувствуется зимой в заводском районе к концу рабочей смены.
Улица вела прямо к Парижу. Ее уносящаяся вдаль перспектива, означенная огнями светофоров, растворялась в тумане, который вдруг сделался разноцветным благодаря открывшимся огням города. Огни, исчезая в тумане, становились все слабее, слабее от одного к одному, от одного к одному, — словно бы падал ряд костяшек домино. Мне стало хорошо. То была минута совершенной гармонии. Когда ты слит с самим собой, осознаешь это, и тебе кажется, что стоишь на вершине мира.
Думая о Салли, я старался угадать, какое платье она выбрала для последнего вечера этого года. Я представил себе абсолютно американскую квартиру Фергюсонов, занимавшую весь верхний этаж в новом доме.